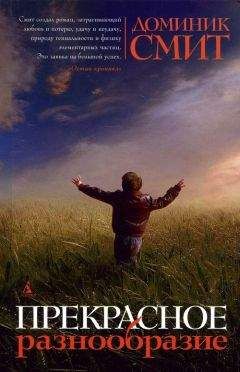Юозас Балтушис - Проданные годы [Роман в новеллах]
Сколько мы со Стяпукасом открыли гнездышек, сколько птенцов навещаем ежедневно! В самом густом молодом ельнике наткнулись на большого лентяя вяхиря. Свил себе гнездо из тонких веточек плакучей березы, а этих веточек так мало, что снизу не слишком трудно разглядеть два белых яичка. Но вяхирь притворяется, что мы со Стяпукасом не видим не только яичек, но и его самого: сидит себе, замер, словно он чучело, и ни гу-гу. Мы тоже притворяемся и идем дальше. В зарослях жимолости висит гнездо сороки, широкое и длинное, словно сума нищего, полное доверху крапчато-бурых яиц. В кустах крушины, колючего можжевельника, непроходимой жимолости, в углублении прогнившего пня, в болотной осоке, в белоусе и во мхе прячут свои гнездышки синицы, щеглы, пищухи, пеночки, поползни, коноплянки… да кто их всех перечтет! Мы находим их домики, ежедневно навещаем их, смотрим, наблюдаем, как вылупливаются из яичек слабенькие, бесстыдно голые, большеротые птенцы, как покрываются они первым пухом, отращивают крылышки с жесткими перьями. И как они потом, выросшие и окрепшие, вылетают, оставляя нам пустые, в пуху, теплые еще гнездышки…
Отсчитаем мы со Стяпукасом на сосенке девятый годовой отросток, вывернем из него сердцевину и делаем свирель, а то вырываем гибкие корни сосны, чисто оскабливаем их, разрываем в длину и плетем из них кошелку. А когда все надоест, валимся на густой белоус и слушаем, как шуршат в чаще коровы, продираются сквозь кусты овцы и позванивает колокольчик моей лакомки пеструхи.
Нет здесь ни старой Розалии, ни хозяйки Стяпукаса, ни моего хозяина, — делай что вздумается, хоть вверх ногами ходи, только доглядывай, чтобы коровы насытились, не возвращались вечером со впалыми боками. Ежедневно к нам в лес приходит Она — отпустить меня на обед. Быстро сбегав домой, я уже сам отпускаю Стяпукаса. Никто не приходит сменить его, и я остаюсь один с обоими стадами.
Пасем и пасем.
Но вот в одно воскресенье вместо Оны пришел в лес отпустить меня Йонас.
— Бумаги получил, — сказал он хриплым голосом.
— Дали землю? — подпрыгнул я от радости.
— Иди обедать, поганец! — вдруг исступленно заорал Йонас. — Скачете тут! И ты тоже, — повернулся он к Стяпукасу. — Чтобы я ни одного не видел!
Стяпукас, не оглядываясь, побрел по лесу.
Йонас опять повернулся ко мне. Смотрел налитыми кровью глазами, что-то мычал сквозь стиснутые зубы. А потом сгреб меня обеими руками, крепко прижал к себе.
— Не серчай… — Из его рта на меня пахнуло вонью водочного перегара. — Мне показалось — смеешься ты.
— Я не смеюсь.
— И хорошо. Смеяться не надо… и хныкать не надо! Ну, чего ты! Говорю, показалось. Не серчай, слышишь?
— Йонас… — окончательно расплакался я. — Ты не получил земли!..
— Не твоя забота! — снова вспылил он. — Получил не получил — мне это знать. Тебе говорю, замолчи, и без твоих слез весело!
Оттолкнул меня, провел натруженной рукой по волосам. Густой, грязный пот катился по его вискам.
— Не дали земли, сатаны! Это ты, брат, угадал, — выдавил хрипло. — Имение Норейкяй разбивают на участки, многим дают, а мне нет… Кто ножку подставил, а?
— Хозяева, я же тебе говорил.
— И я так думаю. И в волостном правлении спрашивал, да черт их там поймет. Тут, видать, кто-то повыше старается. Только бы узнать, кто ножку подставил — голову снесу! А я разузнаю, не бойсь, — погрозил он кулаком кому-то невидимому. А потом обе его руки упали на колени. И долго он сидел на пне, сгорбленный, невеселый. Будто думал о чем-то, будто ждал чего-то. И лишь спустя долгое время улыбнулся.
— Волостной писарь мне новую бумагу составил, — проговорил он. — Я уж послал. Пусть дают землю в другом месте. Мало ли имений в Литве осталось? Ну, чего не идешь обедать? Сто раз надо сказать? — повернулся он ко мне. — Поешь там, что они, сукины дети, дадут, а потом — на сеновал. Поспать надо, вижу я, как тебе неможется по утрам, когда будят. Я попасу.
А дома старая Розалия сидела за столом, поставив жилистые ноги на конец скамейки и оседлав нос очками. Громко выговаривая каждое слово, читала «Житие и муки возлюбленного нашего спасителя Иисуса Христа». По ороговевшим морщинам ее лица катились обильные слезы. Хозяева молча слушали ее.
— Довольно, матушка, глаза испортишь, — пробормотал хозяин.
— На самом деле, матушка, — поддакнула хозяйка.
— Много вы смыслите! Вот куда глядите, — тыкала пальцем старуха в книгу и читала дальше, еще громче выговаривая каждое слово: — «Когда бы кающийся человек пришел пешком в Иерусалим, когда бы постился два года, питаясь хлебом и водою, и, облачившись во власяницу, на коленях обошел святые страстные стояния, и тогда бы он не столь заслужил царствие небесное, сколь проливший хоть единую слезу над муками нашего сладчайшего Иисуса Христа». Слыхали, что сказано? Хоть единую слезу!..
Хозяин ничего не ответил, лишь взял гарнцевую мерку, насыпал в нее несколько горстей овса и пошел на луг, где паслись лошади. По воскресеньям после обеда он часто ходил туда, садился где-нибудь в сторонке и лакомил жеребят овсом.
— Иисусе всемилостивый, — молилась шепотом Розалия. — Отверзи людям очи, отведи от нас всякое зло и ниспошли благодать на сей дом. И батраку Йонасу не откажи в своей милости, господи…
Кончила молитву, перекрестилась, повернулась ко мне:
— Это Йонас тебя отпустил? Что он там делает?
— Йонас веселый, поет, прямо лес гудит! — соврал я от злости.
— Поет? — Обе женщины вытаращили глаза.
— Ага…
Хозяйка переглянулась с Розалией.
— Уж не спятил ли он?
— На все есть божья воля, — промычала старуха. И вдруг обрушилась на хозяйку: — Чего ты, невестка, мешкаешь? Дай пастушонку чего получше, не видишь, какой хороший малец!
И она и хозяйка пристально смотрели на меня, явно ожидая предательства. А я уписывал за обе щеки мясо и не думал говорить правду, пусть даже лопнут от нетерпения. И хлеб, и мясо, и блины иссякли быстро, но еще быстрее иссякло терпение Розалии. Вскочила она со скамейки, захлопнула книгу и мелкими шажками забегала по избе, словно обрызганный водой муравей.
— Заговорщики! Все батраки — заговорщики! Говорила я тебе, невестка, Йонаса надо было сразу гнать вон!..
Подбежала к столу, затопала ногами от злости. Увидев, что я отправляю в рот последний кусок, чуть не вырвала его из моих рук.
— Ты скажешь или нет? Скажешь или нет?
— Я же говорю: Йонас поет в лесу. А мне велел не торопиться, обещал сам попасти до полдника. Больше ничего не сказал, и мне вам сказывать нечего.
— Зарежет! — пискнула Розалия, отскакивая от меня. — Слыхала, невестка? Как бог свят, нынешней же ночью зарежет! Господи, пострадавший за прегрешения наши, помилуй… Помилуй! Неспроста Йонас остался один в лесу, обмозгует там все, а потом придет и зарубит всех!
Розалия начала мелко креститься. Хозяйка побледнела.
— Уж так и зарубит? — стала успокаивать она самое себя. — Так уж возьмет и зарубит? За что? Ничего дурного мы ему не сделали… мы знать ничего не знаем…
— Батраки, они найдут за что. Ты их не знаешь, а они все знают. Богатству нашему завидуют, житью завидуют — вот что! Не помнишь разве, как при большевиках было?
— И тогда не зарубили… Уберег бог.
— Не зарубили, так теперь вдвойне отплатят! Сама увидишь, да поздно будет…
Долго еще суетились обе женщины, долго крестились и шептали молитвы. Но их страхи оказались напрасными. Йонас не зарезал и не зарубил их ни в ту, ни в следующую ночь. Оправившись от несчастья, он опять стал твердить, что «должна быть правда на свете» и что его жалоба распутает все узлы. Поэтому он каждое воскресенье начищал сапоги и спешил в местечко разузнавать. И всегда возвращался ни с чем. Видно, жалоба очень долго шла в Каунас, а в самом Каунасе, должно быть, важные господа были очень заняты и никак не могли отписать Йонасу. Но Йонас был терпелив и ждал перемен к лучшему.
А тут уж начались жаркие летние дни. С утра, покуда в лесу еще держалась роса, коровы и овцы торопливо щипали траву, шуршали листвой кустарников. Но едва солнце поднималось до верхушек сосен и стряхивало росу, как тучи оводов, слепней и прочей нечисти набрасывались на стадо. Ошалевшие от боли и жары коровы рыли копытами землю, ожесточенно хлестали по бокам хвостами, искали кустарников погуще и неслись туда, фыркая и мотая головами. Овцы скучивались, лезли в ольшаник, тыкались мордами в истоптанную коровами черную землю и, подергивая задом от каждого нового укуса овода, оглашали жалостным блеянием нагревшийся к полудню воздух. И вот, взбесившись, самая нетерпеливая во всем стаде лакомка пеструха вдруг задирала торчком хвост и пускалась по лесной дорожке на опушку, а оттуда — домой. А за нею и все стадо, поднимая горячий ветер и тучи пыли. Сколько ни старались мы со Стяпукасом остановить скотину — и щелкали кнутами, и покрикивали, — все было попусту. Что такое один-два удара кнутом по сравнению с адской жарой и тысячами оводов? Ерунда! Коровы прибегали домой раньше, чем мы успевали выскочить на опушку.